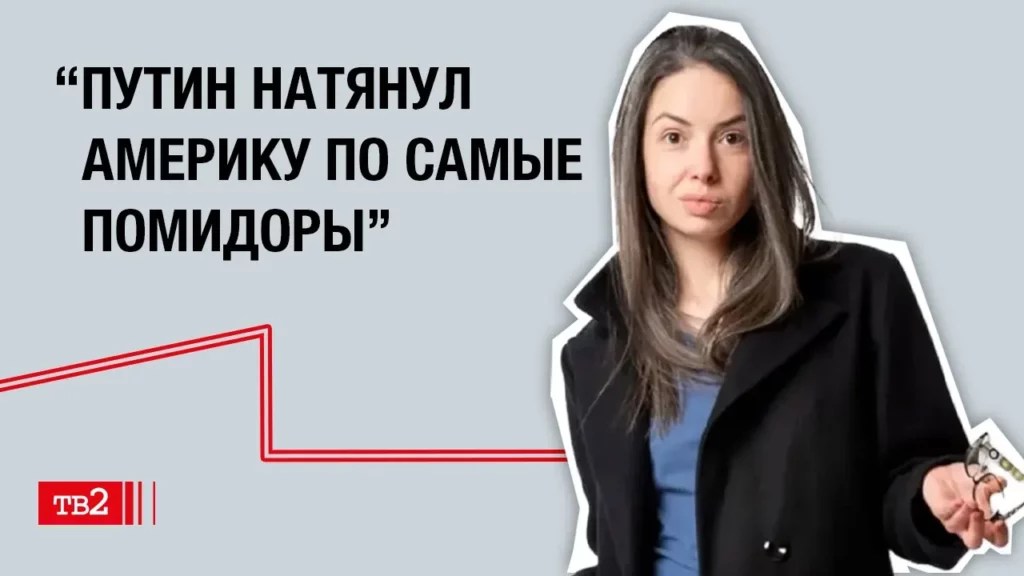Владимир Сотников: «Я боюсь, что будущего нет»
Владимир Сотников — писатель, сценарист. Сегодня живет в эмиграции.
— После начала войны меня нет. Это совсем другой человек. Выжженный, убитый, смотрящий на вещи совсем с другой стороны.
Поговорили с Владимиром о том, как война переменила его, о чувстве поражения, переживаемом многими его сверстниками, о том, зачем писать слова, если они не могут ничего изменить, о том, почему он не вернется в Россию.
Расскажите о себе.
— Я всегда при таком вопросе ко мне вспоминаю Есенина, когда он там в автобиографии пишет, что а что касается всех остальных сведений обо мне, то все они в моих стихах. Я не настолько растворен в своих произведениях, но все-таки я думаю, когда я вспоминаю свою жизнь, думаю о себе, вспоминаю, я думаю, что все-таки в основном я там, в своих произведениях, в своих книгах. Я старался быть там и жить там.
Но все-таки, конечно же, в жизни есть такая формальная сторона, как даты, события. Я родился в 1960 году в Белоруссии, в деревне, в семье сельских учителей. И считаю это таким подарком судьбы для себя, потому что все мое творчество связано с этим. Я думаю, пишу и чувствую только в связи со своим тем временем, которое я там провел с детством.
Как я написал в одном месте, что детство растворилось по всей моей жизни, даже по той, которая еще ожидает меня. Это такой какой-то фон. Фон и вместе с тем составляющая моей жизни, то, что может раствориться по ней, действительно, на всем ее протяжении. И самое главное в том, что я пишу. И там я почувствовал впервые, что мне хочется это делать, передать то, что я вижу, чувствую, условия.
Наткнувшись совершенно случайно в юношеском возрасте на Бунина. Он был виновником того, что я стал писать, потому что я почувствовал, увидел и убедился в том, что возможно, возможно это изображение в слове, изображение того, что я видел и что я хотел. У меня не было талантов ни живописных, ни музыкальных, никаких других талантов, которые составляют суть искусства и ткань искусства. Я, конечно, бросился к словам, потому что это было единственное, что мне было дано передавать.
Наверное, какие-то задатки были еще в детстве, потому что я помню свой первый рассказ, и его долго хранил, потом куда-то он потерялся. Я расскажу о нем, потому что это, мне кажется, такой сутью вообще всего творчества, ну, моего во всяком случае, потому что я его воспринимаю как обращение, как жалобу, как рассказ о том, что тебя волнует. Мне было лет пять, мы пошли гулять, и на нас напали пчелы. Я пришел домой, хотел пожаловаться кому-то, ну маме в первую очередь. Никого дома не было, но я сел за стол. Я уже умел тогда писать печатными такими буквами, как все дети, наверное. Такие читающие, пишущие письма там дедушке, бабушке.
И вывел почему-то вверху листа название «Пчелы» и стал писать: «Мы пошли гулять» короткими предложениями, короткими ясными словами, печатными буквами. То была жалоба на несправедливость какую-то, которая постигла меня в этом мире. Куда я обращал эти слова – не знаю, но это было такое детское обращение к миру. О несправедливости вот неожиданно настигшей его.
Это был мой первый рассказ. Потом, конечно, был перерыв, как я его называю, перерыв подростковости и юности, когда ты ни о чем не думаешь, кроме сравнения себя со сверстниками. Это ты живешь такой жизнью, когда и мысли, твои чувства заменяют события такие быстрые, сменяющие друг друга.
В школе меня учила мама, она была учительницей русской литературы. Папа учил, кстати, меня в начальных классах. Это была такая странная профессия для мужчины, но я потом, может быть, еще скажу об этом. Он сознательно выбрал эту профессию. Она больше 50 лет проработала в одной и той же школе.
И вот когда мама задавала такие, как они назывались, сочинения на вольную тему, они мне удавались. За какие-то зарисовки природные я так долго-долго так, медитируя, медитируя, как я сейчас это называю, а тогда не понимал, что делал, я старался вот изобразить то, что видел, как будто так живописно. Она не верила мне иногда, она думала, что я списывал откуда-то и разгадывала мой плагиат. А то было авторство моего.
И вот наш даже не только семья, весь наш род учительский, и мои дедушки и бабушки, и прадедушки, я не знаю насчет прабабушек, не помню, но они все были учителями. И у меня не было даже выбора, когда я закончил школу, куда поступать. Пединститут.
Так как я учился ровно, неплохо, почему-то я любил математику, физику. Вот то, что как-то было красиво само по себе, без моего усилия в этом мире, гармонии математической я хотел оказаться, я на физмат поступил. И тут вдруг начались такие противоречия. Я сидел в читалке, отодвигал учебник матанализа и брал там «Жизнь Арсеньева», скажем, читал.
И потом придвигал к себе еще и третью тетрадь, чистую, чтобы самому отклик на какие-то записать те чувства, которые были откликом на «Жизнь Арсеньева», может быть. Это был такой вопрос-ответ. И это все как-то усиливалась и усиливалась на противоречие. Я хотел писать, с опозданием это все понял.
Два курса пришлось проучиться в пединституте, и потом в Белоруссии трудно было выбирать, куда дальше ехать. Ну, что, на филфак странно мне было, решил поступить на факультет журналистики. Бросив педагогический институт, я поступил в Минск на журфак. Проучился там четыре года. Я благодарен ему только в одном, что я там встретил свою жену, будущую Таню.
И я, наверное, вот уже разогнавшись и уже не остановившись даже на журфаке, я после четвертого курса опять же бросил его. И благодарен возможности, потому что я советовался с близкими: делать мне так или не делать мне так. Это мне разрешили делать и Таня, и мои родители: «Делай, что ты решаешь, что считаешь нужным». И поехал после этого в Москву в Литературный институт. Пришлось поступать, я думал, надеялся перевестись, но так как цель была выбрана и решение было таким сильным, я уже у меня уже не останавливала. Я поступил на первый курс.
Радовало только то и уменьшало мое такое чувство ошибки, что руководил семинаром и взял меня фактически к себе Владимир Семенович Маканин, которого я обожал и как писателя, и впоследствии, как оказалось, и как человека, потому что он мне стал близок не только как руководитель семинара.
Ну вот, это не в… Это очень подробно, расскажите о себе, но я всегда увлекаюсь, когда вспоминаю свою жизнь и спасаюсь в ней, потому что нынешние времена заставляют больше вспоминать для успокоения и для радости.
А чувство несправедливости для вас осталось важным?
— Чувство несправедливости сейчас достигло таких размеров, которые могут уже требовать таких синонимов, как катастрофа, или полностью крушение мира. Это уже не называется несправедливость, а это какое-то обратное, обратное нормальному устройству мира. Я это так воспринимаю. Я сейчас в нем нахожусь, борюсь с ним, хотя бороться с этим невозможно. Приходится существовать вместе с этим.
А как вы боретесь?
— Я вспоминаю, конечно же, знаю эту фразу, и все пишущие за эти три года после войны, начала войны, как-то находили ответ на этот вопрос: возможно ли продолжать писать, возможно ли продолжение творчества после того, что произошло, после войны России против Украины.
Вот это, это был таким шоком, что выжгло желание творчества, желание быть самим собой. И вот только время спасло. Только время. Об этом кощунственно говорить, потому что за это время Украина страдала неимоверно, а я как будто бы, знаете, лечился временем. Трудно признаться в этом.
Но свою борьбу, как это назвать, я вижу только в том, чтобы выстоять, чтобы продолжить свою жизнь. И не более того. Я вижу вот это восстановление несправедливости в каком-то только исполнении моей мечты какой-то, мечтания. Об этом я написал в своем последнем романе «Она», когда мой герой требует этой несправедливости исправления.
Трудно жить без какой-то своей схемы устройства мира. Вот, и моей, только это будет, конечно, смешно выглядеть, но я это скажу, как восстановление справедливости будет заключаться в том, чтобы в каком-то наказании зла будущем. И я его придумываю даже в потустороннем мире.
Я не имею сил, не имею возможности восстать здесь против этого зла. И я надеюсь и выстраиваю такое устройство мира, что в каком-то продолжении этого мира (у каждого есть свои схемы, как это устроено). Самое интересное, что я сейчас, уже мне 65 лет, и я сейчас повторяю детское мироустройство, свой образ. Я тогда думал, что есть этот мир и тот мир. И сейчас я пришел к этому.
Я прихожу к тому, что будет продолжение, и в том продолжении этого мира будет наказание для преступников. Для всех, кто сейчас нарушил нашу жизнь, кто сотворил вот это зло, которое сейчас пошло по всей земле, это было, конечно, источником вот того, что Путин начал.
Вот сейчас эти волны, которые чуть-чуть напоминают радиоволны, окутывают землю раз за разом, день за днём. Это источник там, в том, что он был избран каким-то потусторонним чёрным миром, исполнителем этого злого умысла. И я думаю, что в том мире (надеюсь на это) что он понесет наказание, и он, и все, все представители вот этих злых сил. Без этого мне неспокойно, без этого плохо, без этого я даже думаю, что это, конечно, сказочное такое детское мечтание, но без него тяжело жить.
Это как мечта ребенка, там, не видевшего маму, встретиться с мамой, как и мечта ребенка что-то получить светлое, как мечта взрослого человека для своих близких какого-то исполнения. И тут я понимаю, что без восстановления справедливости мне не выжить, мне не написать следующий текст, рассказ, произведение, я это понял за эти три года. Если не будет брезжить этот свет в конце тоннеля, чтобы я… ты не назовешь местью воздаяние, чтобы я не восстановил, хотя бы не надеялся на это. Ну, не может это не быть, не может не воздастся.
Как вашу жизнь изменила война?
— Внешнюю? Никак. Внутренне очень сильно я изменился сам. Мне показалось, что я исчез. Мне показалось, что исчезла со мной моя возможность писать. А это самое главное, что меня заполняло. Я подумал и думал, и представлял это долго, что возникла только единственная возможность мне творить от лица того, кто исчез, кто умер. И я как свидетель… У меня остался один только взгляд. Все выжглось. Это было настолько сильным шоком, что исчезло все то, что я умел сделать реальный.
Я думал, что я вот… Я придумал даже себя как нового героя, нового такого героя даже своих произведений, человек исчезнувший. И он оттуда только смотрит на этот мир. Я не мог в прежнем виде оставаться. Я не мог в прежнем виде продолжать свою жизнь автора, пишущего человека. Остался только такой взгляд на ту жизнь. И это, как ни странно, немножко меня… ну, сейчас это вспоминаю и понимаю, что это меня примирило с этим, что я увидел, я нашел какой-то новый способ возможности видеть.
Меня нет, я исчез, я убит, если сказать прямо, этой войной , потому что я когда видел все эти кадры и отца, сидящего над своим сыном на остановке убитого, я не мог существовать здесь. Я мог только это знать, а знать не может человек реальный, но вот в моем понимании он оттуда, он превращается только в свои чувства. И вот вот это изменение такое войны я не мог продолжаться в том же виде, в котором был. Это сложно передать так.
Если бы я вот сейчас спокойно вам это все рассказал, я бы, наверное, написал бы это. Я иногда хочу фиксировать свои чувства. Не всегда это получается. Это размывается каким-то непониманием. Ну, если сказать покороче и пояснее, то после войны, после начала войны, меня нет от прежнего. Это все другой человек. Выжженный, убитый, исчезнувший, смотрящий на это совсем с другой стороны. Ну, так.
Со многими людьми вас война развела?
— Да, со многими. Из тех, кто остался там… Почти со всеми, со всеми, потому что я не могу представить, что я там хотя бы мог бы оказаться, остаться. Это невозможно по всяким причинам. Я бы там не выдержал, наверное, нескольких дней существования этого.
Прививка же была еще у меня, кощунственно так говорить, конечно, об этом, как о прививке. Ну, подготовка такая: я из Чернобыльской зоны, моя деревня исчезла. И все то, что было мне дорого в юности, в детстве, о чем я писал, что составляет меня, наверное, такого чувственного, все исчезло.
И эта выселенная деревня, люди разъехавшиеся, и я это уже пережил. Я уже обожжен один раз исчезновением того мира, который составляла суть мою. Я это страшно переживал. Я об этом написал книгу, это, может быть, «Холочи» называется, по имени моей деревни, по названию моей деревни. Но это, может быть, было такой подготовкой к тому, что я потерял и это, что я потерял и….
Хотя я могу сказать, что я так обрадовался, что я не русский, что я белорус. Было такое чувство, что я отказываюсь от того, что я воспринял в России. Я долгое время не проходил, не оглядываясь на книжный шкаф, чтобы не взять Пушкина и классиков, любимых мной, перечитывать их. Я опускал глаза от стыда. Это было долго.
И вот это вот я надеялся, ну как бы вот на то, что там опомнится. Но самое страшное оказалось не начало войны, а то, что было после. То, что люди восприняли. Когда-то на одной из передач «Эхо Москвы» Ксения Ларина меня спросила, что самое странное и удивительное в Путине было для вас. Я сказал, что вот это его, вот легкость переноса его самых плохих и злых, и отрицательных качеств на окружение, на народ, на страну. Вот эту легкость.
Если бы не он, кто-то другой был, этих бы качеств не было, и они бы не перешли, может быть. Я надеюсь на это. Но вот эта легкость, которая весь его гнусный и тяжелый, страшный, суть его составляющего не человеческую какую-то, необъяснимую, что она воспринялась населением, вот это меня было самое странное. И вот это у меня поразило больше.
Это было большим шоком, чем сама даже… ну, нет, тут тоже не… это несравнимая вещь, и но это было большим шоком, что народ изменился вот буквально за…. Ну, все мы знаем эту психологическую задачу, когда там выкатывают шары разноцветные: белое, черное, и под влиянием там даже на белое — черное, на черное — белое, и люди подчиняются этому, чтобы от них как-то отстали или, или от страха быть не таким, как рядом сидящий, или еще что. Но я даже не хочу это объяснять, потому что это необъяснимо. Это необъяснимо то, что произошло с людьми.
Что-то вижу, я должен это называть. Это как-то сидит внутри нормального человека, эта потребность называть вещи своими именами. В России нынешние вещи не называют своими именами. Так что же это за мир? Что же это за жизнь, если она перевернулась с ног на голову?.
А вы пробовали поговорить с кем-то из тех, с кем развела вас война?
— Таня, это же моя жена, Таня, Анна Берсенева, писательница. Она меня всегда поддерживает, и если бы не она, я бы не пережил все эти годы, потому что она помогает и писать, и первая читательница моя.
Она смеялась надо мной, мои попытки объясниться с этими людьми и отговаривала даже от них. Есть такая социальная сеть «Одноклассники». Когда вышла моя книга «Холочи» об этой деревне, она состоит из… Я как будто в память своей подхожу к крайнему дому моей исчезнувшей деревни, стучу в окно и потом описываю. Соседи по очереди, каждый дом я пишу маленькую главку о них. Этих главок много в этой книге. Я ее таким образом составил. Это собрание таких маленьких новеллок. Они с неожиданным концом, такие значительные, с каким-то смыслом отдельным.
Я это писал, издал. Эта книга попала на родину туда, в Гомельскую область, в Чернобыльскую эту зону. И люди разъехались, живы, но они соединены в этом сообществе одноклассников. Однажды оттуда ко мне иногда доходят какие-то отголоски. Я думаю, войду в эту сеть, обращусь к ним. Они читали мою книгу. Каждому автору мне захотелось отзывов, каких-то мнений.
И тут же еще и случилось это, 20-й год, Минск, минские события, восстания. И я думал, что кого-то образумлю, кого-то поддержу, кому-то объясню что-то. И обратился к ним. Вы не поверите, но там не нашлось ни одного человека, кроме одной женщины, которая каким-то таким изоповым языком говоря, так, догадками высказала со мной согласие.
Я мучился там, переживал там, волновался, вот потому Таня и говорила, что тебе не следует, ты слишком волновался, жить не хотелось от этих отзывов, от прочтения комментариев к моим постам, к моим обращениям, к моим с ним общениям. Не получилось. И я испытал шок от этого, потому что это все-таки мои земляки. Это те люди, которыми я не то чтобы восхищался, но которыми я любовался, и на общении с которыми я вырос.
Я понял, что они другие. Я понял, что я их видел совсем другим взглядом, своим. Это я переносил на них, в литературе это называется перенос. Я переносил на них те качества, которые я хотел в себе видеть, в людях, близких мне людях. Они оказались другими. Это невозможно. Невозможно образумить. Невозможно сделать людей… Невозможно донести до людей то, что они не хотят услышать.
Зачем тогда писать?
— Зачем писать? Для слов. Я пишу для того, чтобы выразить, для себя писать надо. Я пишу только для… Как будто это не будет прочитано. Я пишу для выражения мысли, для того, чтобы это было сделано.
Недавно, чтобы объяснить это, для чего я пишу, я вспомню свой недавний сон. Мне приснился отец, а он уже снится мне не в виде фигуры, как он выглядел, а каким-то таким мыслеобразом он стал. Но я понимаю, что я с ним разговариваю, но не вижу, может быть, его.
И вот во все эти трудные времена, когда я переживал это все, я обратился к нему с тем, что я говорю: «Я хочу уже быть в каком-то таком общем мире, не только в этом, а вообще в большом, в котором и ты находишься, и там писать». Он говорит: «Трудно тебе здесь будет писать, здесь одни существительные». И я понял, что вот писать только для этого и надо, чтобы выразить. Но выразить мысль, чтобы слова наконец дождались своего проявления, чтобы они остались, они ждали того, чтобы быть, и я наконец их нахожу.
Так и писал свою… Ну, вот эти свои последние книги, которые сейчас объединились в одном томе, «Улыбка Эммы», «Холочи» и «Она». И вот я боюсь даже перечитывать их, потому что это вот как будто ставлены для них самих. Я их написал в том виде, в котором… Они дождались себя, они долго писались, долго вот ожидались.
Пишется, не знаю, ну, у каждого писателя свои резоны, свои причины писать. Для чего писать? Только не в воспитательных целях, конечно же. Только для того, чтобы сравнивать, может быть, себя человек. Это сложно. Я не отвечу на этот вопрос, для чего писать.
Есть такое определение: эмиграция — это маленькая смерть. Вы согласны с этим?
— Я согласен с этим, потому что мне было трудно привыкнуть. И раз это трудно было привыкнуть и пережить эти первые годы, значит, почему бы не назвать это каким-то маленьким исчезновением или привыканием, ну, хотя бы болезнью, ну, каким-то унынием. Было долгое время унынием.
Мне легко было, потому что я не один, у меня семья, мои дети, внучка, жена. Я здесь, среди своих людей, среди понимающих меня. И это было легче перенести. В Берлине я как-то купил на набережной смешную картинку, такая просто линиями нарисован человек, который сидит в унынии на скамейке. Долгое время себя сравнивал с ним, что вот я нахожусь в таком унынии, но это было временно.
И потому что я думаю, что не иммиграция виновата, виновата война, которая вот со временем моего переезда… Я бы не почувствовал даже переезда, потому что ну я везде такой ну чуждый. Я чувствую себя не в своей тарелке в этом мире. Я что там, что здесь, я чувствую себя хорошо только вот в детстве, воспоминаниях о том мире, который как раз и развеялся по всей моей жизни.
Я сейчас ловлю себя на улыбке, когда я вспоминаю. Я ловлю, что я улыбаюсь. Сидит такой пожилой человек с глупой улыбкой на лице. Это значит, он вспоминает какой-то свой весенний вечер, когда он идет в соседнюю деревню на свидание. И пахнет черемуха, и пахнет огородом свежим, перепахты. Я вот этим спасаюсь.
Может быть, меня бы не было, ну, в смысле, вот таким, как я есть, если бы вот это не поддерживало меня. Как я благодарен тому времени, которое было первым в моей жизни.
У людей вашего поколения был образ будущего. Оно не случилось. Есть ли у вас чувство поражения?
— Да, мы проиграли. Я проиграл полностью. Ну, как, проиграл бы в таком… Я не проигрываю там, где я… Вот о чем я вам все это рассказываю о себе, волнуюсь и стараюсь докопаться до своих чувств. Я об этом говорю, как будто впервые, потому что я говорю искренне. В этом нет проигрыша, в своих чувствах.
Но во внешнем проявлении нашей жизни, конечно же, мы проиграли. Я помню, если я приведу такой пример, я жалел всех уехавших в 90-е годы. Я им говорил в Шереметьево, что «Куда вы, куда вы? Здесь так интересно, мы только-только начинаем, все только начинается». Мы были молоды, мы выстраивали там наше будущее, нашу жизнь, мы верили, что так оно и будет, потому что по-другому быть не могло. И потом оказалось, что я не прав, что они правильно сделали.
Сейчас иногда даже жалею о том, что надо было тогда, тогда и начинать ездить по миру. Они, они потом… конечно же, мы проиграли злу. Мы проиграли большинству. Мы проиграли силе. Но что… Но я не знаю, что еще можно сказать себе в оправдании. Только единственное, что по-другому быть не могло.
Если бы мы выиграли, я чувствую, что в этом бы был наш проигрыш. Если бы мы выиграли, то мы бы пошли на какой-то компромисс. Если бы только мы начали с ними, с этим злом воевать, я не смог бы быть в рядах тех, кто бы их побеждал на их поле. Это не наше поле. Мы должны проиграть были.
Не знаю для какой цели, для будущего, для какой-то ясности поражения, для такой… как говорил Мандельштам о Христе. Ну, то есть он говорил, что иногда, и иногда лучше истина, чем… да, да. Ну, я не знаю, это не героизм, это… но по-другому не можем, не могли.
И что делать, если вот сейчас весь мир проигрывает, весь мир проигрывает на протяжении всей своей истории, как-то движется. Мы когда-то общались на эту тему с Вячеславом Ивановым. Он же великий человек, великий ученый. И мы спрашивали у него: «А как же, как же, вот постоянно есть какой-то проигрыш. Неужели в этом нет хотя бы такой… объяснения такого исторического, научного, религиозного, какого угодно объяснения, какой смысл во всем этом проигрыше».
Он тут тоже, наверное, точно не мог ответить на этот вопрос, но он говорил: «Все-таки, надеюсь на какой-то эксперимент». Эксперимент. Я не помню его определение, но я так передаю его слова: эксперимент какой-то высших сил, ну, сферы, ну, и еще чего-то. Но вот это есть та ситуация, в которую поставлен человек, чтобы осмыслять творца.
Чтобы обращать к нему свое объяснение этого всего возможного мира. Ну, бывают такие ситуации, как нынешняя, когда не только Россия. Мы сейчас видим, что по всему миру проходит какой-то страшный, страшная инъекция зла, которая проверяет нас на прочность и на продолжение, возможно ли дальнейшее существование наше, если так все дальше пойдет и вот это вот омертвление произойдет дальше. Это не будущего.
Но это и проверяет: стоим ли мы, стоят ли эти слова, которые не для прочтения, хоть чего-то. Высшая цена назначается именно такой ситуацией вещам правильным и честным и нормальным и истинным. Сложно об этом. Это процесс какой-то мыслительный, это процесс осмысления. Но когда ты начинаешь об этом говорить, и в разговоре же всегда требуются какие-то формулировки, диалоги или там в ответе с формулировки. Не для нашего времени. Сейчас время каких-то размышлений с многоточиями, и ты не можешь даже ответить самому себе, что происходит. Тут только важно сейчас выдержать и оставаться самим собой, не поддаться на какие-то поспешные, поспешные формулировки, как я их называю.
Вы вернетесь когда-нибудь в Россию?
— Никогда. Нет, нет, это точно. Я об этом думал, потому я так поспешно ответил на ваш вопрос. Я не могу даже думать об этом, и я не хочу об этом думать. Я боюсь воспоминаний своих, связанных с Россией, с Москвой. Я ее почему-то стал не любить, ненавидеть, все те места, которые там были близки мне.
Как к спасению приходят именно вот эти детские свои воспоминания о деревне. Слава богу, что это у меня есть. А вот это все дальнейшее… Интересно, что вся моя потом жизнь, которая писала, она была связана с какими-то такими чудовищными, чудовищными, нечеловеческими экспериментами над жизнью. Вот спецслужб, там еще какие-то. Вот это все было связано не только со мной, но с моим родом, с отцом, с дедом. Это все как колесо прокатывалось по одному и тому же роду, оставляя вмятину вот на своем каком-то.
Каждому было отмерено, наверное, один оборот, и ждали мы этого оборота, пока это колесо наедет и раздавит. И возвращаться для того, чтобы ждать очередного наезда, выбоины, потому что уж сильно глубока эта память. Память какого-то ужаса такого генетического, такого кода, кода этого ужаса. Я это расшифровываю даже на таком, независимом от человека отдельного выборе жизни. Это, это, это знак той земли.
Жалко, что это поздно понял, здесь уже. Мне надо было бежать раньше. Надо было бежать, спасать себя. Я много потерял и много сил потерял, во всяком случае, которые необходимы для написания этих самых слов. Нет, не вернусь я в Россию.
Наверняка среди тех, кто сейчас воюет против Украины, есть и ваши читатели. Что бы вы им сказали?
— Мне нечего им сказать абсолютно, потому что мы разные оказались люди. Я их не могу не пристыдить, не донести до них ничего. Но человек, который перешел границу, как они называют, «за ленточкой», он уже не… для меня он не… Ну, он враг в каком-то смысле. Ну, не враг физический, а мы просто в разных находимся измерениях, и это бессмысленно.
Я еще обжегся вот этой ситуацией донесения до людей, достучаться хотел до них, как мой отец всегда говорил, что любого можно исправить. Ну, он же учителем был, маленьких детей, поэтому ему легче было. А взрослый человек уже неисправим, мне кажется. Нет, я не знаю, что бы я им сказал. А что среди них есть читатели мои, это несомненно.
Вот еще один пример того, что литература оказалась бессильна. Не только литература и религия, но бессильна перед этим злом, которое оказалось каким-то страшным, страшной проверкой всего, и искусства, и литературы, и религии. В очередной раз прокатилось по нас вот этим самым катком, выжигая все поле, это будущее нашей деятельности, наших детей. Как будто выжигают для того этим напалмом. Я уж боюсь этой мысли, для того, чтобы с нуля все начинать. Не знаю. Я боюсь здесь говорить о будущем. Я боюсь, что его нет.
На что вы надеетесь?
— На эту справедливость, которая будет наведена страшным судом, даже не Гаагским. А каким-то высшим судом. Без этого невозможно жить. Нельзя жить без этой надежды на справедливость. Я написал вот этот роман «Она», в которой мой главный герой (ну, один из главных, там два главных героя, и я там пишу от «я», но я не тот герой, который говорит «я», а, скорее всего, я второй, который назван Алексеем). И он надеется именно на это. И ему как-то легче прощаться с этой жизнью, он ее теряет. Легко, задорно уходя туда, где он подготовит все для этого суда, он так считает. Я только на это надеюсь.
В этой жизни я надеюсь на то, что мои близкие будут со мной, что они будут здоровы, на все хорошее, как обычный человек надеется. Я думал, что вы имеете в виду будущее.